Усталые, мы наконец встали с пола. Саквояжик я забрала к себе в спальню. Так уж повелось, мне вменялось в обязанность заботиться о всех старинных предметах, имеющих историческую ценность, а саквояжик и его содержимое несомненно были очень ценным историческим памятником.
* * *
Ближе к вечеру, когда мы с сестрой пили кофе на застеклённой веранде, в широко распахнутую дверь постучался старик-камердинер. Он был уже в своём нормальном виде, без белого тюрбана на седой голове. Освоившийся с тем, что нас двое, камердинер уже не обращался в пространство между нами, как в первые дни нашего пребывания в замке, а нормально смотрел то на Кристину, то на меня. Высокопарно извинившись, старик попросил у высокородных мадемуазелей разрешения сообщить нечто важное.
Разумеется, высокородные мадемуазели тут же разрешили, причём Кристина добавила:
— Только вы, Гастон, сначала сядьте. Нечего стоять перед нами, тем более что вы ещё не окрепли после травмы.
— Ни в коем случае! — с силой возразил камердинер. — Не пристало мне…
— Ещё как пристало! — оборвала его Крыська. — Иначе и разговаривать с вами не будем. Я, например, все равно бы ничего не поняла, думая лишь о том, что вам стоять вредно.
И поскольку Гастон все ещё колебался, Крыська рявкнула:
— Прошу немедленно сесть!
Должно быть, в этот момент Кристина показалась камердинеру вылитой старой графиней, распоряжения которой он привык выполнять не рассуждая. Вот и теперь Гастон сразу перестал возражать и немедленно сел. Правда, не к столу присел, избави бог, а в сторонке, на краешке стоящего у стены кресла.
Желая поощрить старика, мы произнесли: «Слушаю». Получилось в один голос.
Гастон откашлялся и приступил к делу.
— Так вот, милостивые мадемуазели, я этого бандита опознал. А не признался полиции потому, что не её это дело, а ваше, фамильное. Когда негодяй бросился на меня, я успел рассмотреть его лицо, да и ещё раньше, до этого, как только вошёл в комнату, а он стоял к двери спиной и рылся в туалетном столике графини, так я его со спины признал, потому как очень он приметный вот тут, в плечах.
Желая показать, где именно мерзавец приметный, старый камердинер выразительно повёл плечами, как это делают испанские танцовщицы. И замолк, ожидая нашей реакции.
Не пристало старика разочаровывать, и реакцию мы выдали самую бурную, словно бы не догадывались раньше ни о чем.
— Так кто же это был? — опять дуэтом вскричали мы.
— Да тот самый американец, который сюда приходил, в замок, — ответил очень довольный камердинер. — Милостивые мадемуазели его ещё на целый день в библиотеку запустили. На два дня! А он и раньше бывал в замке, ещё когда госпожа графиня была жива.
— Ну вот, видишь! — почему-то торжествующе крикнула мне сестра, а камердинер удовлетворённо кивнул, словно чего-то такого и ждал от нас.
— А дальше что было? — спросила я.
— Госпожа графиня велела мне быть особенно внимательным и сразу же доложить ей, если тот снова появится, но его больше не было. Несколько лет не появлялся.
Старик замолк, подсчитывая что-то про себя, и продолжал:
— Да, лет шесть как не появлялся. А вот теперь опять приехал. Не очень изменился. Можно сказать, совсем не изменился.
— А вас не узнал? — удивилась я. — При встрече с вами, когда легально пришёл в замок?
Старик вроде бы смешался, но превозмог себя. По нему было видно, решил говорить правду, и только правду.
— Не признал. И по двум причинам. Во-первых, в те времена в замке было много прислуги и он больше имел дело с лакеем. Да и я… Так и быть, признаюсь. И я в те годы выглядел иначе. Боялся, как бы госпожа графиня не сочла меня слишком старым и не отправила на покой, вот и старался выглядеть помоложе. Волосы у меня тогда были чёрные, да и одевался, и держался соответственно. Так что он запросто мог спутать меня с лакеем, Бернардом, тот тоже был брюнетом. Лакея давно уволили. Но это ещё не все.
— А что ещё? — пришла на помощь старику Кристина, видя, что тот не знает, как лучше приступить к рассказу.
Обе мы слушали камердинера с нескрываемым интересом; старик, заметив это, разошёлся, от первоначальной скованности и следа не осталось. Теперь он рассказывал живо, с огоньком.
— Вот, значит, какое дело. Милостивые мадемуазели наверняка знают — прислуге всегда все известно, больше, чем ей положено, да только она помалкивает. Я же… Ведь я здесь, в замке, и родился, ещё в первую войну, мать моя здесь ключницей работала. Она хорошо помнила высокородную графиню Клементину. Матери моей и двадцати лет не было, когда здесь, в замке, разыгрались важные события. В ту пору скоропостижно скончались их милость, виконт де Пусак, Гастоном, как и меня, звали, пусть ему земля будет пухом. Трагической смертью помер! У госпожи графини тогда в замке проживала её внучка, леди Юстина Блэкхилл, тогда ещё молодая девушка и фамилии этой ещё не носила. Так она с превеликой поспешностью туда-сюда ездила, а госпожа графиня с полицией общалась. Какой-то важный полицейский комиссар приезжал к ней в замок. Обо всем этом матушка не раз мне рассказывала, особенно в старости, ей все её молодые годы вспоминались. Вот я и запомнил. Да только не в этом дело.
Кристина сорвалась с места.
— Ну нет! Такие прекрасные истории нельзя слушать всухомятку! Сейчас принесу вино!
И она умчалась прежде, чем несчастный камердинер осознал, что произошла чудовищная вещь, просто скандал в благородном семействе: высокородная дама обслуживает его, слугу! Побагровев, бедняга вскочил с места, что-то бормоча, и собирался броситься вслед за Кристиной на своих старых, разбитых ногах. Пришлось чуть ли не силой усадить старика на место.
— Ну уж нет, господин Гастон, не для того мы с сестрой разведали самое лучшее винцо в этом замке, чтобы теперь оставлять его здесь на произвол судьбы. Ещё неизвестно, кому оно может достаться, так что мы решили его сами прикончить. И вы нам немного поможете. А ваши воспоминания, безусловно, достойны самого прекрасного вина!
Не знаю, насколько мои уговоры убедили бы верного слугу, да Кристина, к счастью, обернулась быстро, и Гастону ничего не оставалось, как принять участие в торжестве, причиной которого стал он сам, и выпить бокал чудесного вина. Впрочем, спокойно выпить ему не дали.
— Ну! — торопила старика Кристина. — Остановились вы на том, что обо всем этом рассказывала вам ваша матушка и не в этом дело. Так в чем же?
Старик послушно отставил благородный напиток и продолжил рассказ:
— Так получилось, что моя покойная матушка была в приятельских отношениях с горничной мадемуазель Юстины, Лизелоттой, вот, даже имя запомнилось. Так вот, как раз в ту пору, что с господином виконтом несчастье приключилось, эта самая Лизелотта замуж собралась и аккурат за женихом охотилась. А её госпожа все планы Лизелотты порушила. В голову ей втемяшилось мчаться за тридевять земель и, ясное дело, горничную с собой прихватить. А тут жених ждёт, еле его уломала. Так эта самая Лизелотта себя не помнила от злости. К тому же госпожа бросила её на произвол судьбы в Кале, а сама в Англию махнула. А ещё Лизелотта никак понять не могла, из-за чего весь сыр-бор, с чего вдруг мадемуазель Юстина в Кале помчалась, а потом аж в Англию, ради чего она, Лизелотта, торчит в этом паршивом Кале, когда решается судьба её? И это совсем её из себя выводило. В замок Нуармон Лизелотта явилась зарёванная и злая как сто тысяч чертей и моей матушке плакалась, как это водится между подружками.
Мы с сестрой даже о вине позабыли, настолько сенсационные новости узнали от старого слуги. У того, похоже, пересохло в горле. Заметив, что бокалы пустые, я осторожно, стараясь не пролить ни капли драгоценной жидкости, наполнила всем бокалы. Камердинер, уже не стесняясь, отхлебнул, откашлялся и продолжил повествование:
— Больше всего, ясное дело, эта Лизелотта жаловалась на пренебрежительное отношение со стороны барышни. И только после того как все узнали о трагической смерти виконта де Пусака, как газеты расписали обо всем в подробностях, и об убийце, который оказался не убийцей вовсе, но все равно сбежал, Лизелотта перестала твердить о своей обиде и кое-что припомнила. И матушке моей рассказала. Сидела она, Лизелотта, в фиакре, как ей барышня приказала, и ждала барышню. Ждала, ждала, глаз не сводила с переулка, куда барышня побежала, как вдруг из этого переулка какой-то тип выскочил. Молодой парень, высокий, плечистый, в распахнутом сюртуке и такой перепуганный, что ничего перед собой не видел. На лошадей чуть не наскочил, те даже шарахнулись. И парень шарахнулся вбок, руками взмахнул, чтобы не упасть, и куда-то сбежал. Лизелотта, естественно, тоже перепугалась. Сидит, бедняга, одна-одинёшенька, с кучером, в фиакре, ждёт госпожу, а той все нет. Наконец мадемуазель Юстина явилась — тоже бегом прибежала, что-то там все бегали как полоумные. Лизелотту на почту с телеграммой отправила, а сама тем временем в Англию уехала, вот так! Не предупредив её, Лизелотту! Хорошо ещё, по словам Лизелотты, какая-то девушка-француженка о ней позаботилась, барышня её попросила, вся заплаканная и печальная, нет, не барышня, а та девушка, но хоть и чем-то огорчённая, о Лизелотте позаботилась, к поезду её отвела, помогла билет купить. Но и она ничего горничной не рассказала, вообще почти не говорила, на расспросы горничной не реагировала. Правда, кое-какие слова у печальной девушки вырвались сами по себе, горничная их запомнила. «Не видать мне его больше!» — вот какие слова вырвались у печальной французской девушки, причём, как говорила Лизелотта, такое горе в них звучало, словно печальная девушка сейчас побежит в море топиться, благо море под боком. Из чего горничная сделала вывод, что тот перепуганный плечистый сбежал вот от этой печальной девушки.
![Иоанна Хмелевская - Алмазная история [Великий алмаз, Большой алмаз]](https://cdn.my-library.info/books/184940/184940.jpg)

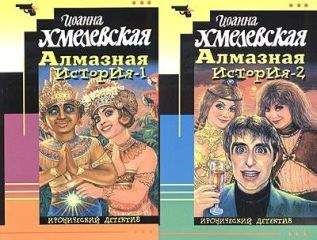
![Иоанна Хмелевская - Бабский мотив [Киллер в сиреневой юбке]](https://cdn.my-library.info/books/184831/184831.jpg)
![Иоанна Хмелевская - Бабский мотив [Киллер в сиреневой юбке]](https://cdn.my-library.info/books/184651/184651.jpg)
